В последнее время в Беларуси наблюдается рост активности граждан, которые отстаивают свое право на благоприятную окружающую среду.
Как я стал Андреем Егоровым

В мою бытность учебы в последней, третьей по счету, школе у нас преподавал химию учитель с замечательным чувством юмора. Добрейший человек.
Вот, скажем, выставляет он оценки за четверть. А у, например, Паши в журнале ни одной оценки нет. Вызывает учитель Пашу к доске, чтобы тот ему что-нибудь рассказал. Водит медленно ручкой по журналу, где написаны пройденные темы и тянет задумчиво: «Скажи-ка мне... скажи-ка мне, как... как...», и вдруг резко поворачивает к Паше, хлопает кулаком по столу и почти радостно восклицает: «Как? Как ты докатился до жизни такой?!» А затем под общий хохот ставит тройку и отпускает.
Наверное, самое лучшее, что могут нам дать учителя, — это не ответы, а вопросы. Вопрос химика остался со мной. На курсах, дискуссиях, школах и семинарах Летучего университета смотрела я на беларусских интеллектуалов и восклицала про себя: «Как?! Как они докатились до жизни такой?!» Как должен жить человек, как думать, что делать, чтобы однажды в него ткнули пальцем и сказали: «Интеллектуал!» Одна из важнейших добродетелей ученика: не знаешь — спроси. Я пошла и спросила. Собранные ответы открывают рубрику «Как становятся интеллектуалами». Впрочем, интеллектуалы — товар штучный, именной. Поэтому и назваться они будут, например, так: «Как я стал Андреем Егоровым». Или — Міхалам Анемпадыставым. Или — Ірынай Дубянецкай.
Собрано всего пять историй, далеко не со всеми случилось поговорить. Но если кому-то интересна история человека, до которого не дошла я, никто не мешает пойти и спросить.
Хочется надеяться, что эти тексты будут не только забавными. Кому-то, возможно, они помогут лучше понимать университетский курс, кому-то — выбрать себе учителя, а кому-то... (почему бы и нет?) стать тем, кого назовут интеллектуалом.
Начнем с Андрея Егорова.
Корни, детство, первые учителя
Родители развелись, когда мне было года 4. И отец умер. А я был отлучен от отцовской семьи с ее традициями. И только когда мне было 9, бабушка, мама отца, меня нашла. Все эти пять лет она шпионила, списывалась с нашими соседями, те ей строчили, что происходит, как растет ребенок. Уже потом она выходила на маму, разговаривала с ней, хотя после смерти отца у них были натянутые отношения. И я стал ездить к бабушке на каникулы.
Отцовская семья была и остается нетипичной, такой большой общиной. Они поддерживают связи, там есть семейная история, которая хранится, рассказывается, передается внукам. Мой прадед воевал в Империалистическую войну, был отравлен газами, недолго прожил. Бабушка вынуждена была бежать от наступающих немцев и жить в то ли в еврейской, то ли в полуеврейской семье, поэтому у нас сохранились теплые воспоминания о евреях. Был прадед Яков, который воевал в Гражданскую, здоровый мужчина под два метра, умер в 90 лет, когда рубил дрова.
Родители отца жили в деревне. Беларусская интеллигенция, сельские настаўнікі. Их статус был высоким, потому что «это же — учитель». Бабушка преподавала русскую литературу. Дедушка был учителем физики, Георгий Егорович Егоров. Дети в школе не могли выговорить его имя и называли «Егор Егорыч». И куча книг. Когда приезжал в детстве к ним домой на лето, на каникулы — не нужно было искать литературу по внеклассному чтению, можно было взять «Войну и мир» Толстого с полки и читать. Ну и было с кем обсудить. То есть это не просто приехать к бабушке за коровой воду носить, была возможность приобщиться к литературе.
Плюс это была беларусская деревня. Говорят по-беларусски. Бабушка тоже скорее по-беларусски говорила, хотя и была учителем русской литературы. Но она переходила с высокого русского на обычный беларусский язык, на котором говорят в деревне.
По маминой линии тоже интересно, но узнать сейчас в подробностях что-либо сложно, сохраняются скорее, такие семейные легенды. Рассказывают, что мой прадед Филимон был какой-то местной умняшкой, откуда-то знал языки (немецкий, польский), в войну был старостой деревни, умудрился избежать репрессий.
Мамина мама умерла, когда маме было 4 года. Отец отдал ее на воспитание тетке, и с 9 лет она воспитывалась не в родной семье. У тетки был сложный характер, у мамы тоже.
Теткин муж был агрономом и окончил еще польское училище. Во время войны был в партизанских отрядах, кажется, на какое-то время был призван даже в польскую армию, а поскольку имел высшее образование, то ли претендовал, то ли даже имел низшее офицерское звание. Но как-то его потом занесло в советские партизанские отряды. После войны работал агрономом, поднимал сельское хозяйство, а значит, был очень влиятельным, принадлежал к местной элите. По воспоминаниям, это был рафинировано интеллигентный человек, зато его жена была очень конфликтной и властной. Когда она начинала орать, он надевал шляпу — у него была шляпа! — и уходил из дома. Возвращался, когда всё успокаивалось. Жена его никогда не работала, она содержала дом, и мама была у нее падчерицей-помощницей.
Рядом с ними жил художник, мама брала у него уроки рисования. Она хорошо рисовала, но тетка ей запрещала, потому что рисованием на жизнь не заработаешь. Запрещала она ей и книги читать. И мама сбежала из теткиной семьи как только смогла, как только закончила 8 классов, в медицинское училище. Закончила его, работала акушеркой. И какое-то бесчисленное количество раз поступала в Гродненский медицинский институт, то ли 4, то ли 6 раз. Поступила в конце концов и стала врачом терапевтом. Где-то на последнем курсе познакомилась с отцом, который учился в Институте лесного хозяйства. Но в институте он не доучился, его выгнали. В семье ходят разные байки почему. Одна из красивых, которую мама рассказывает: отец был привлекательный мужчина и загулял с молодой женой декана. Мало того, он умудрился набить морду декану. И его выперли.
У мамы я научился твердости характера, упорству. Она никогда не складывала лапы ни перед какими трудностями. Преодолевала их и жила постоянно под каким-то давлением. Она была и есть неуживчивая, резкая. Это человек профессии, с представлениями об этике, о долге. До последнего читала медицинские журналы, ориентировалась в лекарствах, ездила на повышения квалификации. Хороший врач, но напрочь лишенная чинопочитания, умения улавливать нюансы корпоративных отношений. Всё время от этого страдала. И с пациентами: он пациент и должен быть вылечен. Соответственно, должен выполнять все указания и соответствовать маминым представлениям о пациенте. Она отчитывала тех, кто приходил к ней грязным, могла наорать на тех, кто не следовал ее указаниям. Плюс — конфликты с коллегами, которые, по ее мнению, неправильно подходили к лечебному процессу. Потому на нее писали жалобы.
Я иногда тяжело переживал из-за давления, которое оказывали на маму, несправедливости отношения, которое складывалось в больничной системе. «Мама, — говорил я, — ну можно же это исправить?» «Но как исправишь, — отвечала она, — если у этого человека родственники в прокуратуре?» Это первая политическая интенция, возникающая с детства. Я понимал, что всё пирамидально устроено и что из какого-то центра можно нормально всё обустроить. Но если ты не находишься в этом центре, ты абсолютно бессилен. А значит, думал я, нужно быть там, в этом властном центре, откуда можно всё устроить по-человечески.
Но чего не хватало маме, то с избытком было у бабушки. Я у нее учился отношениям с людьми, всем этим тонкостям коммуникаций. Например, о специфической беларусской вежливости. Когда тебе предлагают что-то съесть или выпить, нельзя так просто согласиться, надо понять контекст, в котором это предлагается. Помню, мне предложили гранатового сока. И, по бабушкиным представлениям, нельзя было соглашаться, потому что это дорого, люди нам не очень знакомые, у них маленький ребенок, и это ему было предназначено. Она мне потом объясняла, что нельзя было говорить: «Да-да». Да вообще-то и невкусно было. Нафиг я его пил... А еще, когда я приехал в 9 лет в эту деревню снова, идем мы с бабушкой, а нас всякие люди встречают на дороге и начинают: «Ой, какой хороший ребенок! А мы же тебя помним!» Бабушка отвела меня в сторону и говорит: «Они тебя могут сглазить. Поэтому когда сильно хвалят, ты кукиш в кармане держи. Но улыбайся. А сам держи, чтобы не сглазили». Вот такой бабушкин урок был: не все люди, которые взаимодействуют с тобой и говорят что-то хорошее, имеют в виду доброе. Некоторая дистанция, настороженность должна быть.
Еще одно, что мне передалось от мамы: она хорошо относилась к людям, стремилась им помочь. У нее были пациенты-истерики, те, кому вечно кажется, что они чем-то болеют. А я часто проводил время в ней на работе: сидел в кабинете, ездил на вызовы. Скучно было. И вот приходит такой истерик, и мама с ним возится, что-то советует, объясняет. Иногда очень иронично. Человек жалуется на насморк, а она советует: «Поезжайте на море, в горячий песок нос закопайте, он прогреется». А он ее слушает, потому что ему нужен разговор, участие. И мама участвует. А мне смешно. Я спрашивал: «Ты чего с ним возишься?» И мама объясняла, что люди разные бывают, кому-то нужен просто разговор. Кому-то она прописывала уколы чистой дистиллированной воды. И их делали, и такое плацебо людям помогало. Это переходило и в мое отношение: с одной стороны — принципиальность, с другой — человеческое отношение к людям.
Ну и через маму прививалась любовь к чтению. Она очень много читала, всякого разного. Я читал то, что она читала. Потом она уже читала то, что я читал. В семью покупались книги. Плюс — она была человеком, с которым можно было обсудить всё, от непонятных слов до непонятных мест. И она требовала, чтобы я хорошо учился, пугала: «Иначе будешь говно вывозить». Такой своеобразный выбор всегда был: или учиться, или говно вывозить.
Мама не говорила по-беларусски, ну иногда только, но в семье было уважительное отношение к беларусскому языку, а поскольку мама с Полесья, то и к полесскому диалекту. Она любила рассказывать как отец, сам из Центральной Беларуси, когда приезжал на Полесье (а он был очень смешливый человек), страшно с местного диалекта смеялся, но любил его. Он просто обожал слушать, как разговаривают, просил петь песни, спрашивал, что значит слово. И ужасно смеялся. Для меня отец был воображаемой фигурой, про него осталось мало, но очень теплые воспоминания. И вот этот рассказ был очень привлекательным. Поэтому привязанность к Беларуси складывалась в общении с родственниками. Складывалось теплое отношение к семейной истории, привязанность к тутэйшаму. Но в школе я долго был обычным советским ребенком, пока не случился...

На Летней школе Летучего университета
Поворот идентичности
6-й класс. Это переходный период начала 1990-х, разрушение Советского Союза и всё прочее. Я помню, почему-то был антисоветчиком, но не помню почему. Когда был референдум по развалу... то есть сохранению СССР, в 1989-м, я был против того, что мама голосовала за сохранение. Почему — не знаю. Не нравился мне Советский Союз. Может быть, потому, что смотрел телевизор. Уже тогда были все эти «Огонек», «ВиД», вот я этой антисоветчиной и пропитался. А еще я увлекался историей. Книжки исторические в магазине скупал все и тащил домой читать. В том числе — научные книжки. История была моим любимым предметом, но контекст подачи в школе был советский, значит, русско-имперский. Соответственно, я тоже ощущал себя в этом древнерусском контексте. Наверное, дома еще сохранились: я рисовал гербы древнерусских княжеств, городов. Соответственно, Владимир, как «мать городов русских», был в центре, а не Киев.
А потом мне попался Мікола Ермаловіч. Я купил книжку, которая называлась «Па слядах аднаго міфа». Прочитал ее и сравнил с учебником по истории. Это был 5-6-й класс, и мы проходили тот же период истории Беларуси, про формирование Великого княжества Литовского. Учебник У. Пашуты. был написан с точки зрения литовского завоевания. А Ермалович громил этого Пашуту напропалую. Сейчас-то понятно, что Ермалович — не профессиональный историк, в его концепции много чисто исторических нестыковок, нюансов. Но, идеологически, Ермалович двигал очень сильную концепцию. Она была привлекательной: независимое беларусское государство, мы были в центре создания Великого княжества, которое стало мощной державой в Средние века. Оно было беларусским государством, мы были центром. Не Московское княжество. И меня это страшно-страшно увлекло. Я стал терроризировать учителей истории, говоря: «А почему у нас в учебнике одно, а в книжке другое?» Учительница не могла объяснить, она была старой школы, новых веяний не знала. Она говорила: «Ну, знаешь, в истории всегда что-то меняется. Одни — пишут так, другие — иначе. Просто другая историческая концепция». То есть она предлагала забить. А меня такие ответы не удовлетворяли.
Но дальше я уже сам разбирался. Книжки выходили, можно было читать. «100 пытанняў, 100 адказаў з гісторыі Беларусі», «Кароткі нарыс гісторыі Бларусі», книги Владимира Орлова, Кароткевич опять же. Всё это стало выходить, и я всю эту литературу поглощал. Это сформировало из меня беларусского националиста. Но поворотный пункт — это Ермалович, когда я принял другую концепцию понимания истории, беларусоцентричность.
Беларусом я себя и до этого считал, но это был культурный контекст, но не политико-исторический. А после Ермаловича я осознал политическую сторону дела. Произошел поворот идентичности. Я тогда не перешел на беларусский язык, но весь имперский контекст исчез. А исчез он потому, что новый взгляд был мне ближе. Если в российской истории я всегда был не пойми кто, то здесь мне было чем гордиться: «Ё-моё, я же беларус? Беларус. А тут беларусская история, о как замечательно!»

На Летней школе Летучего университета
«Чараватыя карузлікі»
Я активно беларусизировал своих друзей. Ты же прочитал, значит, ты это обсуждаешь, рассказываешь, говоришь, что в учебнике всё не так написано, а на самом деле было вот так.
Я ведь не только много читал. В секциях особо не занимался, а пионерлагеря просто ненавидел за казарменную дисциплину. И не факт, что там будут люди, с которыми захочется дружить, поговорить. Но у меня всегда были друзья, немного, 2-3 человека. С ними и играли, с ними же ввязывались в драки. Чему научился во дворе? Если бьют твоих друзей, ты должен ввязываться в драку. Один за всех и все за одного. Опять же, нельзя давать спуску. Если на тебя наезжают, нельзя от этого уходить, не принимать вызов. Ты должен как-то отвечать.
У нас тогда, уже после Ермаловича, сбился достаточно плотный круг, человек 6-7, которые потом стали чараватымі карузлікамі. Это была «партия—секта—рок-группа». Саня взял в библиотеке книгу Яна Борщевского «Шляхтіч Завальня», где на первой странице кто-то кровью написал «Наташа». И сама книжка — такой мрачноватый романтизм XIX века. Там куча всякой беларусской нечисти, змеиные короли, цмокі и — чараватыя карузлікі. Такие черти, они жили в лесах. И у нас название было «Чараваты карузлік». А дальше из всякой ерунды, которая творилась вокруг, мы формировали концепцию чараватай карузласці. Притягивали эзотеризм и буддизм, говорили, что в каждом человеке есть чараватасць и карузласць. И они должны находиться в балансе, как Инь и Янь.
У одного из чараватых карузлікаў брат был сатанистом, он жил в другом городе. А наш чараваты карузлік собирал свою группу сатанистов, объяснял им принципы сатанизма, отправления культа. Нам он говорил так: «Они думают, что это церковь имени Сатаны, но это церковь имени меня!» Но какие там сатанисты? Они слушали тяжелый рок, носили черные куртки, вешали значки. А мы ходили осквернять места сатанистов, освещали это потом в летописи чараватых карузлікаў.
Потом мы выпускали газету в школе. Называлась «Праўда-матка». В слове «матка» нам к тому же чудился какой-то эротический подтекст... У Серёги на работе у мамы был цветной принтер, в первых текстовых редакторах мы фигачили саму газету, двустороннюю на листах формата А4, и вывешивали в школе. Писалась она на беларусском языке, и были в ней всякие школьные новости. Такая, юмористически-критическая по отношению к тому, что происходило в школе, в обществе. Вызвала она бурный интерес. Два номера, правда, только вышло. Что нас подвигло ее выпускать? Фан, прикол. Потому, что чараватыя карузлікі назвали себя «буддистами-приколистами». Буддизм шел от меня в основном, так как кроме истории я интересовался всякой эзотерической и религиоведческой литературой. И я думал, что я буддист. Это была версия интереса к космогонии, к устройству мира. Помню, мы писали концепцию чараватых карузлікаў и там было: «Религиозная доктрина чараватых карузлікаў не противоречит ни одной из мировых религий, поскольку таковая доктрина отсутствует».
И даже название «партия—секта—рок-группа» — это тоже фан. И «партия» в порядке фана, хотя мы понимали, что должны править, влиять. Эта идея задавалась беларусским националистическим контекстом.
У каждого из нас были чаравата-карузлыя имена. Мы их сами выбирали. Я был — Стары Язэп. Или просто Стары. Это из песни группы «Крамы»: «Стары Язэп налье нам гарэлкі...» Так что я был корчмарем. Чараватыя карузлікі были веселой тусовкой, в которой сначала пили чай, а потом уже и что-нибудь покрепче. Была возможность собираться у меня дома, и я мог выставить гарэлкі. Ну и да, наверное, я был там одним из лидеров.
Теория чаравата-карузласці была достаточно разработанная, синкретически впитывающая в себя все достижения масскультуры: например, черный и белый вигвам из «Твин-Пикс». Я мог загонять про это дело часами. А в студенческие годы так было очень забавно охмурять девушек. Начинаешь им рассказывать про древнюю религию беларусов — боконизм. Они спрашивают, что это. Ты говоришь: «Древняя религия беларусов». Они спрашивают: «В чем состоит?» «Ну, — говоришь, — однажды на остров Сан-Лоренцо был выброшен негр епископального вероисповедания...» «Подожди-подожди, — останавливают они, — какой негр? Беларусы...» «Не надо относиться ко всему так буквально,— говорю я. — Это же метафорически!» И загонял часами. Люди уходили в аут, не понимая, серьезно ли я. Они просто выпадали, и можно было брать их теплыми.

На Летней школе Летучего университета
«Кем быть?» и другие еврейские вопросы
В старших классах я взялся за учебу. В девятом опять начал вести дневник, обычный школьный дневник. Несколько лет до того я его вообще не вел, а поскольку учился хорошо, никто и внимания не обращал, что я не сдаю его на проверку. Правда, в 10-м классе снова перестал его вести... Но в 9-м я сильно брался за учебу, исправлял оценки, ставил себе задачи.
Чтобы понять, как я выбирал профессию, нужно ввести в историю двух персонажей. Оба — молодые учителя истории. Один из них — Сергей Калиненко. Он был учеником Михаила Ткачева. А Ткачев — один из тех людей, которые двигали развитие исторической науки и беларусской политики в конце 1980-х — начале 1990-х, основатель партии «Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада», один из деятелей движения БНФ. Как историк он раскапывал Кревский замок. То есть такой сторонник Адраджэння, оказал на многих позитивное влияние. Но в те времена его затретировали, он подвергался давлению. Сжили его, в общем, со свету, а классный был мужик, по рассказам Калиненко. А Сергей был молодой историк, националистического уже толка, участник демонстраций 1980-х годов в Гродно, когда он там учился на истфаке, участник раскопок Кревского замка. И он про всё это рассказывал, политический контекст обсуждался. Мы подружились.
Второй пришел к нам как раз в классе 9-м — Борис Мельник. Еврей, который учился на физика-оптика в Минске, закончил там Политех и был специалистом по приборам ночного видения и лазерам. Его сразу забирали в оборонку, но в оборонку он не пошел, потому что у него была интенция уехать в Израиль — во-первых, а во-вторых — как еврей, он страшно ненавидел всё совковое и обороновское. Он был убежденный еврей, не религиозный, но очень симпатизирующий еврейской традиции, думающий, головастый парень. И в школе его пристроили на какое-то время вести историю, в которой он вообще не рубил. А другом его был тот самый Серёга Калиненко. И вот я начинаю плотно общаться с Борисом и Сергеем, разница-то в возрасте не такая большая.
Много обсуждалось про учебу, про то, кем быть, куда дальше идти. А Борис очень непростой человек в обсуждении. У него такая сократовская манера задавания вопросов. То есть в какой-то момент он всегда занимал позицию, когда он задает тебе очень сложные и неудобные вопросы, на которые ты вынужден отвечать. Очень острые вопросы, и тебе нужно думать, что ты сейчас скажешь, потому что за каждый твой ответ с тебя следующим вопросом будет спрошено. Это серьезная игра, когда тебя цепляют за каждое слово и не дают соскочить с темы. Нужно было очень хорошо понимать, что ты говоришь. Борис жестко критиковал за колебания.
При этом он был на тот момент, наверное, самый, как бы я сейчас сказал, самоопределенный человек из всех, с кем я встречался. У него была четкая установка по жизни, у него были мечты, задачи. Он учил английский, был организован, он понимал, что в Израиле его знания недостаточны, и доучивался сам. У него было представление о приоритетах в жизни. Борис говорил: «Для меня главное — это учеба». А учеба у него — в широком смысле: это и профессиональная учеба, и сопутствующая (например, языки). «На втором месте — спорт. Потом — семья». И у него всё объяснялось, почему учеба на первом, почему спорт на втором, а не семья. Он говорил: «Зачем я без спорта жене?» Встретить такого человека, с такими простыми и ясными приоритетами — это было забавно.
И просто он был очень умный и привлекательный человек. Он читал книги по истории, а потом в классе интерпретировал и передавал детишкам, что понял. Всё это происходило в диалоговом режиме. Очень не канонично, конечно, но уроки были прикольные.
Я дружу с ним и не порываю связи до сих пор. Он теперь доктор физнаук. Это пример жизни человека, на которого ты ориентируешься, который стал одним из учителей по жизни. У Бориса я учился задавать вопросы, думать, быть самостоятельным в разбирательстве с мыслью, учился спорить. И плюс — его иерархия жизненных целей, целеустремленность. По-другому понятая ценность и практичность знания, знания для себя. Уважение к спорту, боевым искусствам (он занимался айкидо, и я потом в Минске несколько лет тоже).
Борис сильно повлиял на меня во многих отношениях, в том числе в плане самоопределенности по отношению к стране. А тогда выборы Лукашенко идут, 1994-й год, когда он уезжает, мы всё это обсуждаем. И он говорит: «Я-то уезжаю, мне всё равно, я на выборы не пойду, не хочу влиять на то, что здесь будет. А вам здесь жить».
«Кем ты хочешь быть?» — спрашивал он меня. Я отвечал: «Президентом!»
Я был заряжен национализмом, это 1994-96 годы, когда происходят пертурбации в стране, они мне очень не нравятся. Мы националисты, а тут символика меняется, бел-чырвона-белы флаг уходит. Хрен знает что творится. Всё плохо, надо восстанавливать демократию. И в этот момент встает выбор: куда идти. А я — олимпиадник по химии, математике, физике. С другой стороны, я понимаю, что мне нужно хорошее гуманитарное образование. Не знаю, откуда я этого набрался, но я сформулировал для себя, что мне нужно хорошее гуманитарное образование, чтобы повлиять на что-то в стране. А про образование я ничего не понимал тогда. И выбирал не то чтобы престижное, а как я себе понимал, где это образование мне может быть дано. И выбрал факультет международных отношений БГУ.
Серега Калиненко говорил мне: «Ты не ходи на международные отношения как таковые. Что ты будешь там учить? Историю всякую. Ты вот иди на международное право лучше». На международное право я и пошел поступать. Но интенция у меня была — гуманитарное образование. Всемирная история была в программе, философия, специальные предметы по международному праву, языки. И я думал, там мне дадут то образование, которое позволит что-то по поводу страны делать.
Конечно, на меня все накинулись: «Ты не поступишь! Международные отношения — ты что? Там всё куплено, куда тебе!» Даже в семье. Но я пошел. И не поступил. Потому что я балбес. Четверка была по моей любимой математике. Затупил на экзамене, сделал глупую ошибку. И не поступил первый раз. Пошел на подготовительное отделение, потому что это давало отсрочку от армии. И собирался через год опять на международное право. Но пока я учился, поменяли экзамены. А значит, пришлось бы сдавать много такого, к чему не готовили подготовительные курсы. Это всё нужно было осваивать быстро, мне было лень. А с подготовительного, чтобы поступить на юрфак на политологию, нужно было просто сдать на четверки. Это было проще, я легко сдал и попал на политологию в БГУ. И слава Богу. Сейчас я понимаю, что это абсолютно по барабану, куда бы я тогда ни поступил. Поскольку гуманитарного образования, как я сейчас его понимаю, в стране не давалось нигде. И до сих пор нигде не дается.

Андрей Егоров с семьей на Летней школе Летучего университета
В поисках гуманитарного образования
Я попадаю в университет, и он очень быстро становится не то чтобы неинтересным, но явно недостаточным. Формальный процесс учебы, особенно предметы, которые мы разбирали на первом курсе, — они неинтересные. Ты либо — знаешь то, что тебе дают, либо — даже больше. Я к тому времени уже, например, прочитал под карандаш книгу, изданную Фондом «Открытое общество», из серии, которую редактировали Антипенко, Акудович, на беларусском языке, — «Філасофскае здумленне» Жанны Эрш. В Минск приехал, смотрю — книжка стоит, а я много чего покупал. И, поскольку нужно было сдавать «Человек. Общество. Государство», я ее прочитал и законспектировал еще на подготовительном отделении. Так что я уже немножко рубил в философии.
Подходит как-то ко мне товарищ, он учился на втором курсе, и мы жили в одной комнате. А у них экзамен по философии и преподавательница, которую все страшно боятся. Подходит и говорит: «Я смотрю, ты пацан умный, раз такие книжки читаешь. Может, ты пойдешь за меня экзамен сдашь?» А я-то еще на подготовительном отделении. Ломаюсь какое-то время: «Она меня опознает». «Как она тебя опознает? Она меня ни разу не видела. Просто переклеим в зачетке фотографии». Договорились так: если я сдаю на три, он мне ставит три литра пива, если на четыре — четыре литра, и так далее. И я иду. На первый в жизни студенческий экзамен. Первый вопрос был «Бытие», а второй — «Неопозитивизм». Про бытие я мог наплести очень много, а про неопозитивизм ничего. И я очень хорошо отвечаю первый вопрос, а про неопозитивизм она начинает помогать, задавать наводящие вопросы: «Что, — спрашивает, — повлияло на переход от позитивизма к неопозитивизму?» И подсказывает: «Научные изменения». Тут, не знаю, откуда это всплыло, я выдаю: «Проникновение, — говорю, — науки в микромир!» И получаю пять баллов. И — пять литров пива.
Во время учебы уже один из курсов по политологии читала преподавательница — Нина Арсеньевна Антонович, которая по крайней мере старалась нам много чего дать. Она отличалась от других молодостью и большей политологичностью знания. Но мы с ней постоянно препирались. И иногда она очень непонятно излагала. Однажды я с удивлением обнаружил, что то, что написано в конспекте про Парсонса, и сам Парсонс — очень разные вещи. В тот момент я понял, что читать учебники — совершенно бесперспективное занятие. Читать нужно первоисточники. В них совсем не то, что в разжеванных пересказах.
Так что, университетских курсов не хватало, чтобы меня увлечь. Был хороший предмет — «Общая теория права», и отличный преподаватель, который его вел, — Сергей Артурович Калинин. Он потом был моим научным руководителем. Вот он требовал куда больше, чем пишется в учебниках. Был очень строг, терроризировал всех на парах, требовал читать первоисточники, давал книги, вроде, «Философии права» Гегеля, заставлял ходить в библиотеку. В университетской библиотеке книг не хватало, либо потому что у Калинина не ты один учился, либо просто не было. А в Национальную библиотеку на первом курсе мы записаться не могли, туда пускали только с третьего курса. И Андрей Казакевич (мы учились в одной группе) помог мне сделать справку, что я рабочий завода. Мама его посодействовала. Я записался как рабочий завода в общий читальный зал Национальной библиотеки. И она стала вторым местом, где я проводил очень много времени, читая всякие книжки — по курсам, не по курсам, уходя в сторону по своим интересам. Многое конспектировал.
Я учился в одной группе с Казакевичем, с Андреем Курейчиком, с Таней Чулицкой. Чулицкая делила студентов на три типа: 1) гоблины — общажная тусовка и те, кто ходил квасить в общагу, живя в Минске; 2) девочки со среднего ряда — те, кто прилежно учились, но с неба ничего не хватали; 3) и шаляй-валяй — не попадавшие ни в одну из двух других групп. Сама Чулицкая относилась к третьим, а я был, кончено, гоблином. Пьянство, разгильдяйство, не хождение на пары, сдача зачетов в последний момент, недопуски к экзаменам. Но сдавал я в итоге хорошо. При этом я не учился так, как предписывает университет. Он предписывает ходить на пары, слушать лекции, вести конспекты. Конспектов у меня никогда не было. Если бы не Алина и Таня Чулицкая, которые конспекты вели, я бы, наверное, никогда университет не закончил. Они меня и спасали.
Преподаватели задавали разную степень дисциплины, и на какие-то курсы я просто вынужден был ходить. «Общую теорию права» пропускать было нельзя. Экономику — тоже. Но, опять же, мой способ подготовки был такой: я брал «Экономику» Фишера и изучал ее. Учебник я не понимал, он был как-то по-дебильному написан. А вот «Экономику» Фишера я понимал хорошо. Учебные курсы задавали вопросы, ответы на которые нужны для экзамена, программы курсов давали ориентацию в теме, то есть объективное содержание, как это называется в методологическом подходе. А дальше ты уже начитывал это содержание, где приходилось. Я обычно делал это в библиотеке. Потому что в комнате учиться было невозможно. И потому что еще мама мне внушила: учиться нужно в читалке. Она рассказывала про университет и всегда говорила: «Я училась в читальном зале. Приходила, набирала книг и готовилась». Вот это сидение в читальном зале я тоже исповедовал.
Читать тексты меня специально никто не учил. Скорее, был аналитический склад соображалки, и он двигал в разбирательство. Меня еще в школе раздражало, когда я что-то не понимал. Всегда, когда я учился, для меня важна была предельная ясность того, что говорится и пишется. Если я читал учебник по физике, для меня не могло остаться непонятного места, потому что это меня бесило. Мне нужно было добиться ясности. И отсюда любовь к точным наукам: ты имеешь набор аксиом, а дальше, если ты знаешь правила оперирования, ты можешь вывести что угодно. Не нужно учить все тригонометрические формулы, нужно понимать, как это фурычит. Если понял, как это фурычит, — ты сам их выведешь. У меня в школе были хорошие учителя по естественным наукам, плюс — я сам тянулся. И это задало дисциплину понимания.
Поэтому любые сложные тексты, которые попадались, были для меня вызовом: нужно понять, о чем там идет речь, что с чем связано. Поэтому Гегель меня бесил. У него предложения по странице, в которых хрен поймешь, что он хочет сказать, возникают двойные-тройные интерпретации. Но всё равно это было вызовом, и я врубался. Это была тренировка понимания.
Были друзья, которые работали в такой же установке — установке понимания, интерпретации текста, с которыми можно было про это разговаривать. Казакевич, например. И мы про это разговаривали. Дал мне Казакевич «Бытие и время» почитать. Читаю я и нифига не понимаю. Читаю этот хайдеггеровский текст, связываю предложения, а смысл не клеится. Бред какой-то выходит. Прихожу к Казакевичу: «Андрей, я не понимаю!» На что мне Казакевич говорит: «Хм, понимаешь... Ты неправильно читаешь. Это ведь текст Хайдеггера. Ты читаешь его как текст аналитической философии, где всё друг с другом логично связано, одно из другого вытекает. Но этот текст так читать нельзя. Здесь ты должен почувствовать дискурс. Почувствовать, куда движется мысль автора. Если теряешь какие-то куски, не врубаешься — ну так ты и забивай на них». Я попробовал так читать — нормально, текст вкуривается, становится понятен. Оказалось, есть разные способы чтения, и прямое понимание аналитического порядка не всегда возможно в современной литературке интеллектуального плана.
Мацкевич позже научил обращать внимание не только на то, о чем говорится, но и на то, что этим говорением делается. Это тоже помогает понимать текст — устный и письменный.

На проектной сессии Летучего университета
«Беларускі калегіюм»
С Казакевичем мы стусовались с первого курса. И еще — человека четыре националистов из группы. Со второго курса у нас был «Беларускі патрыятычны звяз». А тогда еще шли всякие митинги, мы на них ходили. И понимали, что в стране творится какая-то фигня. В политической жизни творилась просто полная дурь. А мы пытались как-то иначе к этому подойти, иначе осмыслить. Ну, наивно, конечно. Пытались что-то придумать: от формирования настоящей патриотической ячейки до выпуска текстов, объясняющих, почему в стране так. Но ни до чего конкретного не дошло. В общем, это было что-то вроде марксистского кружка. Мы собирались поговорить и разобраться в происходящих событиях.
На втором курсе Казакевич увидел объявление про «Беларускі калегіюм» в «Нашай ніве»: «А давай туда пойдем?» И мы пошли. Университет не давал нам того, что мы хотели, а «Беларускі калегіюм» казался чем-то совершенно новым. Туда брали с третьего курса, поэтому нас, второкурсников, записали не студэнтамі, а слухачамі. И мы в него попали. Это была совершенно другая образовательная среда. Попали на общеколегиумовские курсы, которые читал Сяргей Санька, о беларусской традиции. То, о чем он рассказывал, можно прочитать в первых часопісах «Крыўя». Как это выглядело... Приходит человек и начинает изъясняться в таких терминах: «Культура — это тезаурус фреймов, взятый в его синхроническом аспекте». И так на полтора часа, через апелляцию к «Мифологии» Барта, структуре мифов хеттов и древних беларусских сказок. И ты нихрена не понимаешь вообще. А Санька нисколько не заботится о том, чтобы разжевывать тебе всё это на понятном для детей языке. Всё, что он мог сделать для тебя хорошего, — это дать дискету с литературой или отправить в библиотеку. И ты вынужден был ходить и читать этого Барта, брать журнал «Фрагмэнты», разбираться, осваивать и что-то понимать.
«Калегіюм» — совсем другая среда. Совершенно другой мир, другой язык изложения, другие подходы. Что нам не нравилось в университете? Несовременность, долдонскость. А в «Калегіюме» была опора на современную философию, было собственное мышление, яркие люди, дискуссионная среда. Вот там было гуманитарное образование! И из «Калегіюма» можно было взять в десятки раз больше, чем я взял из-за собственной лени и разгильдяйства.
Мы с Казакевичем сначала были на журналистике, но в итоге мигрировали, скорее, на философию и литературу. Там можно было бадзяцца по всему пространству «Калегіюма», и мы ходили к Захару Шыбеке, Бобкову, Акудовичу. Вот эти замечательные люди — Бобков, Акудович — сильно повлияли на мое мышление, на самостоятельность разбирательства, на попытки создания текстов. Я тогда прохалявил, а вот Казакевич написал там свой хороший первый текст.
Бобков и Акудович были ориентирами. Они несли живую мысль и темы, которые были нам интересны. Мы обсуждали сущность философии и политики, идею Беларуси. Причем на серьезном уровне, разбирая тексты Жижека, на которых тогда «висел» Бобков. Саид и постколониализм — их нам тоже толкал Бобков, он через них понимал Беларусь. То есть не исходя из того, что написано в Конституции и в законах РБ, а из современных философских конструкций. Это было интересно, это было про Беларусь. Нас тянуло в «Калегіюм» именно это. Потому что знание, которое давалось в БГУ, было абсолютно оторвано от страны. А в «Калегіюме» мысль была к стране привязана.
В Беларуси всё было неправильно, мы хотели привести это в порядок. Но тогда надо разбираться, что не так, и как это приводить в порядок. И была очевидна нехватка знания о Беларуси. На политологии его не давали. Она была абстрактно-схоластическим предметом. А нужно было исследовать саму Беларусь. Нужно было эмпирическое знание про страну. И мы его искали. С тем чтобы потом что-то в этой стране менять. «Беларускі патрыятычны звяз» — это вроде бы про то, как менять, такая мечтающая о деятельности структура, а вот «Беларускі калегіюм» — это среда, где такое знание можно было получать.
А еще мы таскались на всякие митинги и входили в разные патриотические структуры. Например, «Белый легион». Праворадикальная организация, куда мы ходили на тренировки. И пытались внести в нее больше духа, меньше дури, больше концептуальности. Пытались развивать идеи, писали концепции, осознавая себя политологами. А потом — Правозащитный центр «Вясна». Там мы были юристами, помогали людям с жалобами, наладили систему сбора первичной информации о задержаниях, поставили системную работу по мониторингу. А позже были вартаўнікамі на офисе. Это давало пространство, место, где можно было проводить собрания всяких патриотичных союзов. И потом Казакевич рассказывал, что «Вясна», Бобков и семинар Мацкевича повлияли на то, что сошлась группа, основавшая журнал «Палітычная сфера».

На проектной сессии Летучего университета
Семинар Мацкевича
Мы были еще в универе на третьем курсе. Перед парламентскими выборами 2000 года в IBB проводился недельный семинар по подготовке групп в штабы кандидатов. Бугрова, Наумова, Добровольский, Альфер проводили с нами занятия по электоральной кампании. Это было близко к реальной практике, которой не было на факультете. Мы разбирали законодательные аспекты, имидж кандидата и так далее. А потом должны были пойти поработать в штабы. Мы тогда не признавали идею бойкота, считали, что в выборах нужно участвовать и пошли работать на Ольгу Абрамову. Идеологически она нам была совершенно не близка, по этому поводу в штабе происходили терки и напряжения: мы — такие правые-правые, «Белый легион», а они — «яблочники» и либералы-либералы. Шли всякие споры. Но Абрамова была куда более оппозиционной, чем явный кандидат от власти. И это нас как-то примиряло с работой на нее. Работа была: принеси-подай-не мешай. Клеили плакаты, собирали подписи, агитировали на местах. Мы хорошо отработали свои участки и пытались делать больше. Нам обещали много возможностей, но кинули. Это еще раз нас убедило, что не чего связываться со всякими либералами.
А в семинаре по подготовке был Виталий Рымашевский. Он состоял в «Молодежном христианско-социальном союзе» и был очень критично настроен к тогдашней беларусской оппозиции. И вот Рымашевский познакомил меня сначала с текстами Мацкевича, а потом и с самим Мацкевичем.
Началось с обсуждения беларусской политики, что нужно и не нужно делать. Мы тогда были рядовыми участниками митингов и не понимали, как устроена внутренняя структура политической жизни. Но активно туда влезали. Я вот до КХП-БНФ пытался донести, что Позняк пишет отличные тексты по анализу ситуации, но то, что он предлагает делать, — безумие полное, потому что там тридцать три шага пропущено до того, что он рекомендует делать, и нужно это восполнять.
И вот Рымашевский дал мне тексты Мацкевича. А мы тогда понимали: всё, что происходит в политике, — оно дурное, без мозгов. И мы наивно думали, что нужно создать такой аналитический центр управления оппозицией, который бы поставлял оценки ситуации, разрабатывал бы технологические планы, чтобы наконец-то вернуть демократию. Но представления о том, что такое аналитика и как она должна делаться, еще не было. Мы понимали, что неправильно, а как правильно — не знали. И вот мы почитали Мацкевича. Это была аналитика! Тексты про Беларусь 1994-96 годов абсолютно точно описывали целостность ситуации, которая разворачивалась в 2000 году. Чувак писал тексты, которые предсказывали. Они были классные и совершенно другие. Мы тогда обсудили, что это примерно то, что мы должны делать, как мы должны писать.
И Рымашевский притащил нас к нему познакомить. Мацкевич сидел в маленькой комнатке в отделе методологии образования на улице Короля в РИПО. Мы притащились как раз с этой задачей: нужно писать аналитику, осмыслять политику. Собрался круг людей, человек десять, в том числе Рымашевский, и начались семинары. Очень странные семинары, в которых Мацкевич нас всех страшно напрягал. Он писал тогда книжку «Вызывающее молчание» и был вообще в пограничном состоянии, как сам потом рассказывал. Он строил семинар про Беларусь. Чтобы что-то менять в Беларуси, нам нужна концепция Беларуси, нужно думать Беларусь. Беларусь нужно покрыть категориальной сеткой и заполнить недостающие клеточки. И вот у него есть программа Культурной политики, концепция Беларуси, в которой он вот эту клеточку заполнил, вот эту, а эти пустые и их нужно заполнить, чтобы понимать, что делать дальше.
Мы на этом семинаре с Мацкевичем постоянно спорили. Он всё время говорил что-то, что нам не нравилось, Казакевич вступал с ним в дискуссию. Я пытался понять и разобраться и очень много понимал на столкновениях Казакевича с ВВ, пытаясь как-то вывести из этого среднее. Но был постоянный срач, каждый семинар, и мы каждый семинар выходили и говорили: «Блин, скотина какая!» «Стоит ли к нему дальше ходить?» — спрашивали мы себя. И решали, что стоит. Стоит, чтобы его забороть. Но ходили мы всё-таки не воевать, а учиться. То есть он нас не учил тому, что нам нужно. Но это было что-то в том направлении. И дядька был жесткий, но по-своему очень правильный. Так что из всей этой борьбы мы выносили очень продуктивные вещи. Напряженная среда — это был настоящий семинар, живой. Но людей из него постепенно вымыло. Рымашевский рассорился с Мацкевичем на том, что надо же что-то делать, а вы тут всё думаете. И пошел делать. А мы остались думать.
В конце 2000 года я попал в формирующийся «Зубр» — молодежное движение. А в семинарах, обсуждая политическую ситуацию, мы говорили, что выборы 2001-го уже проиграны. «Что нужно делать? — говорил Мацкевич. — Нужно готовиться к следующим выборам». Но каково тогда осмысленное поведение на выборах 2001-го? Можно пойти туда с исследовательскими задачами. И Мацкевич объяснял про исследование действием. Мы составили тогда шахматку — табличку, которую нужно было заполнять, — про функционирование выборов. И каждый с этой шахматкой куда-то пошел. Я пошел в «Зубр». И ввалился с головой в революцию, которую там готовили. И напрочь — напрочь! — забыл про исследовательские установки. Когда мы вышли из ситуации выборов, Казакевич, конечно же, принес заполненную шахматку. И тут я понял, что просто забыл про это дело. Не помнил ни разу, никакой рефлексивности не сохранял. Для меня это был шок: «Твою мать! — думал я. — Ну, нельзя же так!» Но в «Зубре» я бадзяўся еще до года 2003-го.
В конце концов семинар разделился на две части: 1) про Беларусь, серьезная часть; и 2) детско-воспитательная, где Мацкевич рассказывал про педагогику идеала, самоопределение, взрослость. Но второй семинар загнулся, а из первого выжили я, Казакевич, Мацкевич и время от времени появлялись другие люди.
Учиться у Мацкевича можно, только вовлекаясь в практику. И он нас в нее втягивал. Я тогда не очень понимал этот подход. Но в результате семинаров понял: он — человек, у которого я учусь. Это задавалось в том числе рассказами самого Мацкевича про педагогику идеала, взросление, самоопределение, его собственных учителей. Но учился я не методологии. Мы обсуждали концепцию Беларуси, политику. Но методологии не было. Мацкевич к чему-то апеллировал, но, скорее, предостерегал от чтения Щедровицкого. «Это очень сложно, — говорил он мне тогда. — С этого бы я не начинал». Поэтому схемы и прочее, вообще, вхождение в методологию — это было только в 2005 году, когда я уже вернулся. Те семинары закончились году в 2001-2002-м и до 2005-го я не имел с ним почти никаких контактов. А в 2005-м — это была Киевская игра, я ездил в качестве игротехника. Я уже сознательно возвращался доучиваться, потому что на первых семинарах не доучился.

На проектной сессии Летучего университета
Межмацкевичье
В 2003-м в государстве происходил какой-то националистический поворот. Создавалось ощущение, что если Лукашенко поменяет герб и флаг, вернет беларусский контекст в государственную политику, то в принципе с остальной фигней (понимая, что ничего сделать нельзя) можно и смириться. Это, конечно, хреново, система дебильная. Но если она возвращается на националистические рельсы и сохраняет беларусскую культуру, удерживает независимость — ее можно стерпеть.
Ну и нужно перестать заниматься революционной вечной борьбой, а нужно идти заниматься осмысленной деятельностью на благо страны. В бизнес там, я не знаю...
А мы же еще и аспиранты. Нас на кафедре начинают вовлекать в преподавание. И дают читать курс государственной идеологии. После идеологического совещания у Лукашенко в 2003 году «Государственную идеологию» спустили на кафедру политологии как общеуниверситетский курс. И была к нему методичка, совершенно пустая, с бессодержательными темами: «Национальные интересы», «трансформация Беларуси», «система государственного устройства». Но что конкретно в каждой теме надо читать — не написано. И учебников никаких не было. Вкладывать в эту методичку можно было что угодно. Карт-бланш. Мы с Казакевичем сидели, обсуждали: «Мы же не можем рассказывать всякую ерунду про славного президента и Великую Отечественную войну? Есть тема «Идеология». Что мы должны рассказывать? Про идеологию!» И мы рассказывали про идеологию по Карлу Маннгейму с привлечением Хайдеггера и Бурдьё. В теме «Национальные интересы» рассказывали про национализм и консерватизм. В теме «Политическая система» — про конституционный кризис 1996 года, переворот, авторитаризацию. То есть это был абсолютно националистический курс государственной идеологии. Настоящей идеологии беларусского государства.
Казакевич читал это на биологическом факультете, я вел на том же факультете семинары, а еще на факультете нетрадиционной медицины и на журналистике. С Казакевичем у меня было полное взаимопонимание. С другими лекторами — никто инструкций не давал, и я на семинарах делал, что хотел. Кончилось это тем, что с Казакевичем всё прошло хорошо, через год его снова пригласили читать лекции и вести семинары на биологическом факультете. На нетрадиционной медицине тоже прошло нормально, принял я свои зачеты. А на журналистике на меня в середине курса написали маляву. О том, что я идеологически неблагонадежен. Меня вызвал завкафедрой, сказал: «Бумагу, которую на тебя написали, я тебе не покажу. Сделать ничего не могу. С преподавания курса тебя придется снять, чтобы страсти утихомирить. Но выгонять из аспирантуры мы не будем. Так что, ты защищайся, а потом твори, что хочешь». То есть он меня, в некотором смысле, прикрыл.
К тому времени уже несколько лет существовал журнал «Палітычная сфера». И мы с Казакевичем были в ней главными людьми. Это была установка Казакевича: нам нужен журнал беларусских политологических исследований. Причем нацеленный на получение эмпирических данных, на понимание самой Беларуси. То, что давалось на кафедре политологии, Беларуси никак не касалось. Политологическая теория была схоластикой. Основная идея была такая: нам нужно создавать политологию как науку в Беларуси, ведь ее как таковой не было. Не было супольнасці, не было инструментов коммуникации, не было инструментов трансляции и воспроизводства кадров, не было эмпирических исследований. Всё это нужно было запускать. И журнал должен был стать местом такой коммуникации. А для создания сообщества должен был быть семинар, который мы запускали по образцу того, что было у Мацкевича. Позже продолжением этой работы стал Конгресс исследователей Беларуси. А тогда мы пытались сами строить исследования. То есть это не была исследовательская программа, до этого там далеко, но мы пытались смотреть в реальность и описывать ее как есть.
Так что мои тогдашние три «Кантора—Крама—Канапа» — это аспирантура, «Палітычная сфера». Еще я преподавал «Основы права» в школе. Но нужно было еще деньги какие-то зарабатывать. Аспирантура не давала нормального бабла. А надо было снимать квартиру. Я пошел разносить свое CV по разным университетам, меня нигде не взяли. Говорили: «Вот защититесь, будет у вас кандидатская степень — приходите». «Чем заниматься? — думал я. — Пойду-ка я куда-нибудь криейтором». По Пелевину, так: раз творцы не нужны, буду криейтором. И искал работу в маркетинговых исследованиях, в этой сфере. Так попал на «Юрспекр» и стал работать в отделе по борьбе с конкурентами. У меня там был классный начальник. Он тоже многому меня научил в практике работы с анализом в бизнесе. Бизнес-системы, стратегии конкурентов и так далее. И мы боролись с конкурентами. Достаточно эффективно.
Находясь внутри деятельности, я понимал что аналитика, которая пишется, имеет действенный характер. Я, выдавая эту аналитику, должен менять поведение своей фирмы, ее персонала, ее руководства. И начальник меня тогда учил: «Ты, — говорил, — неправильно пишешь». Он меня постоянно корректировал. За умность слов, за длинность текстов меня там постоянно дрючили. За недейственность текста — ну, что его выбросят в мусорку, а его должны прочитать и принять какие-то решения по этому поводу.
А, кроме аспирантуры и работы и «Палітычнай сферы», еще я тогда бадзяўся на всякие семинары, к Абушенко и Бобкову в Институт философии, например. Мы подумывали про восстановление семинара с Мацкевичем, но так и не восстановили.
«Палітычная сфера» — это место, в котором были цели. В аспирантуре я не учился нормально, скорее, дурака валял. А вот работа в бизнесе стала приводить меня в ужас. То есть вначале — очень интересно. Ты входишь в эту среду, работаешь, разбираешься, достигаешь каких-то успехов. А потом экстраполируешь это дальше и можешь рассчитать свою жизнь на годы вперед. Ну, хорошо, сейчас ты стал бизнес-аналитиком, и в этой фирме ты, допустим, лучший. Дальше, возможно, тебе дадут отдел, на тебя будут работать люди, ты будешь делать более крутые исследования. И может быть, когда ты будешь очень крутой и твой отдел будет сильно влиять на показатели фирмы, ее прибыли, тебе дадут какую-нибудь долю в капитале и участии в развитии фирмы. И вот так вся жизнь... И что? Я вот этим буду заниматься всю жизнь? Ну, это же как-то... мелко, что ли!
И когда Мацкевич приглашает нас с Казакевичем и Юру Чаусова игротехниками на Киевскую игру. Чаусов отказывается сразу, Казакевич еще какое-то время ходит на игротехнические семинары, но потом тоже отказывается («Это бессмысленно — то, что вы затеяли», — говорил он.), а я туда поехал. И уже после игры вернулся к установочным рамкам изменения Беларуси. И с тех пор — в ученичестве у Мацкевича.
В какое-то время я сформировал для себя теорию человека. Человек — не хороший и не плохой, говорил я сам себе и друзьям. Он — не белый и не черный. Он — серый, неопределенный. С такой установкой к нему и нужно подходить, без предоценок. И уже дальше, во взаимодействии, в отношениях можно понять, добрый он или злой, плохой или хороший, и соответствующим образом относиться. После того как он что-то сделал, это становится фактом, и ты можешь быть в чем-то уверен. Так что, судить можно только о тех людях, с которыми есть личный контакт. Все остальные люди — не хорошие и не плохие. Масса людей — она серая.
Но Мацкевич очень сильно повлиял на понимание людей. Вот идут семинары. Крайне жесткие ситуации коммуникативных столкновений, напряжений. И встречаются идиоты, которые встают и начинают нести пугру, совершенно не связанную с рамками, темой. Просто бредятина валит из головы. И Мацкевич — всегда! — слушает этого человека с напряженным вниманием. И вытаскивает из этого бреда какие-то вещи, связанные с развитием содержания, что-то, что можно положить на доску, или зацепиться за них и сделать ход в развитии мысли. Я всегда удивлялся: «Мацкевич! Как ты можешь это делать?» Он отвечал: «Понимаешь, у меня есть две установки. Первая — это христианское отношение к человеку, любовь к нему. Людей нужно любить. Человек — самое ценное из того, что нам дано в этом мире. Даже Бог дан нам через отношения с людьми. Если я делаю добро человеку, этим я делаю добро Богу. Это одна установка. А вторая в том, что даже самый распоследний идиот один раз за свою жизнь может помыслить, сделать ценный вклад в развитие содержания. А ты можешь это упустить!» Вот поэтому нужно внимательно слушать людей. А до того я только удивлялся, как у него так настроен слух, что он выцепливает эти зерна смыслов в потоке бессмысленного говорения. Встает какой-нибудь дурак, я знаю, что он дурак и ничего хорошего сказать не может, и я не могу слышать то, что он говорит, иначе как глупости. Человек говорит, а у меня бананы в ушах и я всё пропускаю мимо. А ведь это может быть тот самый единственный момент, тот раз в жизни, когда он мыслит! А я не в процессе.

На зимней конференции Летучего университета
Сегодня
Официально я уже не в ученичестве. Наше расставание произошло на игре, которую я вел. С тех пор я в самостоятельном плавании, но на недалекой орбите. Сейчас это, скорее, товарищеские отношения со-работничества в Культурной политике, чем отношения ученик-учитель.
После Киевской игры сначала моими целями становятся цели «Стратегии-2006» (она появилась на игре) и происходит принятие целей Культурной политики. И начинается разбирательство с этой программой, знакомство с текстами.
Сейчас мы работаем над тем, чтобы вывести ЦЕТ как исследовательско-аналитическую структуру на передовые позиции среди аналитических центров в Беларуси. Это налаживание постоянного производства аналитики, исследований под обеспечение целей движения в рамках Культурной политики. И гражданское общество — это то, что является фокусом приложения интересов. Плюс — это участие в других линиях развития культурно-политической схемы: от Газеты, в смысле медиа-практики — до дел Университета.
Горизонты личного развития — я должен выходить на передовые аналитические позиции, мое слово должно быть значимо. При этом у меня никогда не было сверхценности собственного мнения. Еще в школе я понял, что, по сути, во мне нет ничего такого, чего нет во внешнем мире. Все мои знания я почерпнул из книжек, у мамы, Бориса, Мацкевича. Потом мне объяснили, что это процесс социализации. Всё-всё — всё! — во мне есть вещи приобретенные. Я — сборная солянка, состоящая из того, что уже было сказано и написано. Я не являюсь чем-то уникальным. Некоторое время я думал, что раз так, я ничего нового не могу производить, писать. Я — квалифицированный читатель, думал я. Все будут писать, а я — читать. Но жизнь меня вынудила писать. В «Калегіюме», в «Юрспектре», у Мацкевича. ВВ просто ставил задачи: «Пишите аналитику». — «Не умеем». — «Пишите! Кто за вас будет это делать? Никто не умеет! Идите и пишите!» — говорил он. И ты шел и писал, потом тебя правили старшие товарищи. Или писали вместе — с Кацуком, с Водолажской. Мацкевич задавал вдумчивые рефлексивные вопросы. И так дело шло.
Сказать что-то вовне ты можешь, только если ты причастен к процессу мышления. Только в мышлении появляется новое. А мышление — коллективно. То есть новое появляется не из меня. Личное мнение — это дерьмо. В 90% случаев люди просто механически воспроизводят что-то из культуры. Но в процессе мышления новое может возникнуть. Но это не ты говоришь, это мышление говорит через тебя. А тексты и публичные высказывания берутся из обращенности в практику. Ты хочешь что-то сделать, что-то в этом мире поменять. Мышление — это только одна рамочка, но вынести его результаты можно только туда, где это употребляется, где это для чего-то нужно. То есть ты пытаешься что-то этим текстом, устным, письменным, сделать. Ты ретранслятор из мышления в практику. Схоластическое мышление, без практики, мне, как ковыряние в носу, не очень интересно. Конечно, завораживает движение мысли в идеальном плане. Но без практики говорить незачем. Поэтому нужен Университет как место для мышления, а движение Культурной политики — это практика. И ЦЕТ выстраивает связь между мышлением и практикой в виде аналитики.
И конечно, мне нужны люди, команда. Я постоянно их ищу. На семинарах, которые мы организуем, на курсе, который читаю в Летучем университете. У курса, кроме того, есть еще одна задача — он методологический, он распространяет язык. Мы прирастаем в том числе языком. То есть это другой способ видения мира, его интерпретации, который, будучи посаженным на людей, позволяет им иначе вычленять нечто в той реальности, с которой они взаимодействуют. Они начинают иначе видеть, как устроена политика, общественная жизнь в стране. И в этом они могут самоопределяться иначе. В этом смысле, они и могут выбирать нас. Или хотя бы идентифицировать нас как нечто другое, а не паковать в привычные формы. Распространение языка — это раз. И да, вторая цель курса — это притягивание людей в команду.

На зимней конференции Летучего университета
Другие публикации
-
Почему граждане и государство не могут договориться?
Мнение общественности часто не учитывают, а лишь цинично «изучают». Почему так и можно ли делать иначе?
-
Беларусь постепенно осваивает ценности и установки, заложенные в Конвенции ЮНЕСКО
По оценкам экспертов и по статистическим данным, сфера культуры в Беларуси демонстрирует позитивную динамику. Во всяком случае, с точки зрения целей и ценностей Конвенции ЮНЕСКО.
-
Культурная политика как фактор развития (Фото)
В Беларуси есть цензура и не соблюдаются авторские права, а Кодекс о культуре направлен прежде всего на ее контроль, а не на развитие.
-
Чем Эстония лучше Германии для криптобизнеса
Эстония является лучшей страной для бизнеса в сфере криптовалют и блокчейна.






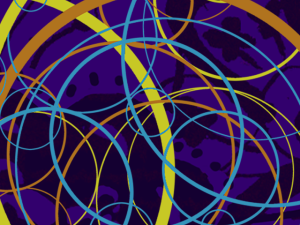




Комментарии и дискуссии
Онлайн-беседа: «Доверие в обществе: как оно сегодня возможно?» (Видео)
29 декабря 2020 года в режиме онлайн состоялась беседа, в ходе которой ее участники обсудили изменение ситуации с доверием в беларусском обществе в ходе событий уходящего года.